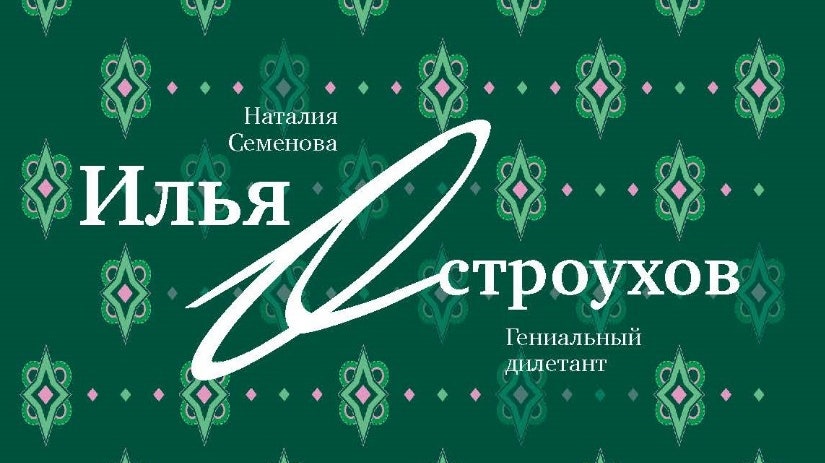Собирать иконы Илья Семенович начал с такой стремительностью, что барон Николай Врангель, поместивший первую статью об остроуховском собрании в Аполлоне, ни словом не обмолвился о его иконописной части. Возможно, в тот момент новому остроуховскому увлечению никто значения не придал. Считается, что интерес к иконе подогрел Анри Матисс, чей панегирик древнерусской живописи поместили почти все московские газеты: «Старые русские иконы — вот истинное большое искусство. В них, как мистический цветок, раскрывается душа народа, писавшего их»; «Такого богатства красок, такой чистоты их, непосредственности в передаче я нигде не видел. Это — лучшее достояние Москвы»; «Современный художник должен черпать вдохновение в этих примитивах».
За свое недолгое пребывание в древней столице Матисс успел восхититься не только остроуховскими иконами. Вместе с Остроуховым он побывал в Успенском соборе, Патриаршей ризнице, Новодевичьем монастыре, позавтракал на Софийской набережной у супругов Харитоненко («Матисс хочет набросать вид Кремля, и у них есть несколько интересных икон»), съездил на автомобиле к старообрядцам на Рогожское кладбище и на Преображенскую заставу, в Никольский Единоверческий монастырь, ну и, конечно, к Петру Ивановичу Щукину на Грузинскую. В довершение Остроухов привез француза в Третьяковскую галерею и оставил одного в зале с иконами, откуда с огромным трудом смог увести через два часа.
Осенью 1911 года, когда Сергей Иванович Щукин приехал с Матиссом в Москву, со времени покупки Остроуховым первой иконы прошло всего два года. Приобретение картин и рисунков Илья Семенович свел к минимуму, особенно иностранных, поскольку лишился главного советчика, своего человека в Париже — Ивана Ивановича Щукина. Потрясенный внезапном уходом Жана Ваграмского, Остроухов жаловался Боткиной, сетуя на то, что никто теперь не достанет ему лучшие вещи Мане, Гойи, Родена.
Если бы Матисс приехал годом позже, он увидел бы гораздо больше шедевров. Но и того, что показал Остроухов, хватило, чтобы после посещения Трубниковского Матисс не мог уснуть всю ночь. «Вчера вечером был у нас. И надо было видеть его восторг от икон! Он буквально весь вечер не отходил от них, смакуя и восторгаясь каждой. И с какой finesse [тонкостью]!... В конце концов он заявил, что из-за этих икон стоило ему приехать и из более далекого города, чем Париж, что иконы эти выше теперь для него Fra Beato...», — на следующий же день написал Остроухов Боткиной, не забыв рассказать, что утром ему позвонил по телефону Сергей Иванович, сообщивший, что его гость «буквально всю ночь не мог заснуть от остроты впечатления».
Как человек Матисс Остроухову очень нравился («удивительно тонкий, оригинальный и воспитанный господин»), с ним было интересно («мы вместе ходили в Лувр, где восторгались египтянами»), но его искусство не трогало вовсе. Сергей Иванович Щукин, считавший своего любимца «художником эпохи», подобным равнодушием со стороны Ильи Семеновича был страшно расстроен. Никакие уверения в том, что «величие Матисса» признано решительно всеми европейскими корифеями искусствознания, не действовали. А убедить Остроухова в неправоте было важно вдвойне: щукинское собрание вот уже несколько лет было завещано галерее, соответственно, ей отходили и все Матиссы. Исключение было сделано лишь для Танца и Музыки, причем по воле Ильи Семеновича. Едва увидев «возмутительные панно», он предусмотрительно поторопился обезопасить вверенный ему музей от таких, с позволения сказать, шедевров и попросил Сергея Ивановича официально оформить отказ от передачи панно. Он и подаренную Матиссом Обнаженную — благодарность за московский прием — вешать на стену не захотел и задвинул за шкаф, откуда в начале 1920-х годов ее извлек часто бывавший в Трубниковском Леонид Леонов, только начинавший свою литературную карьеру.
Осторожность в подборе нового искусства для галереи («Галерея — учреждение казенное»; «Пока я в галерее, Кузнецова там больше не будет!!!!») можно понять. В собственное собрание Илья Семенович вообще не допустил ни одного авангардиста, а то, что принимал Матисса как дорогого гостя, — знак расположения к французу, но отнюдь не почитание его творчества. Лишь на мгновение Остроухов дрогнул: «Были на интересном концерте у С.И.Щукина. Представляете, мне понравился большой Матисс, водруженный на лестнице!» — признался Остроухов Боткиной. Больше ни одного доброго слова о матиссовской живописи он не произнес («Тут Школа живописи и ваяния уволила 50 матиссничавших учеников, ничего не хотевших работать по указаниям учителей! И я всецело на стороне школы. Безобразие...»).
Зато Сергей Иванович Щукин восхищался Матиссом, заказывая картину за картиной. Иван Абрамович Морозов тоже заказывал картины, хотя и значительно реже. На двоих у них было полсотни работ. Парадоксально, но, скорее всего, и отношение к иконе во многом изменилось благодаря собраниям новой французской живописи: без них, как заметил Муратов, «глаз и вкус русского общества» ни за что не удалось бы так быстро «перевоспитать». Очень возможно, что не произойди в конце XIX века переворот в искусстве, не появись импрессионисты, не возникни такая фигура, как Анри Матисс, не произошло бы осознания красоты и уникальности древней русской иконы. Неудивительно, что упростивший живопись Матисс был так поражен русской иконой и призывал во что бы то ни стало учиться и искать вдохновение у примитивов. Восторгались иконой и русские авангардисты, восхищавшиеся не только живописью Сезанна и Матисса (которую имели возможность видеть у С.И.Щукина на Знаменке), но и самой иконой, лубком, вывеской и прочим изобразительным фольклором, добиваясь острой цветовой и пластической выразительности.
Вышеописанное случилось где-то в начале 1910-х годов, в то самое время, когда начал собирать иконы Остроухов, когда был создан иконный отдел Русского музея и родилась идея создать музей иконописи в Москве. В 1913 году в московском Гостином дворе состоялась первая публичная выставка древнерусских икон XIV–XVI веков из частных собраний.
Многие подозревали Остроухова в неискренности этой его столь внезапной страсти к древнерусской иконописи. Зять Гиляровского Виктор Лобанов был уверен, что «икономания» поразила Илью Семеновича из желания обойти конкурентов — в пику Петру Ивановичу Щукину, собиравшему в своем особняке на Пресне «заваль» из заброшенных ризниц древних монастырей, и наперекор начинающему коллекционеру древних икон, миллионеру из старообрядцев Степану Рябушинскому. Все это — сплетни, которые не уставал пересказывать Лобанов в своих Канунах. Просто надо было иметь талант Остроухова брать то, что нравится, азартнее многих других людей. Поэтому все, что только можно было извлечь на свет божий по части икон, было им извлечено, все, что можно было осмотреть, — осмотрено. «Если когда-нибудь суждено мне будет написать книгу о древнерусской живописи, она будет посвящена Вам — первому русскому художнику-собирателю и воскресителю древних икон... И какое счастье и благодарение Богу, что Вы нашли для себя такое прекрасное и неизмеримое сейчас великое дело, — писал Павел Муратов, взволнованный посещением особняка в Трубниковском. — Я ждал многого по Вашим письмам, но то, что я увидел, превзошло всякую меру предположений. Я был так взволнован и растроган, что целый день не мог вернуться к будничному московскому жизнеощущению».
За время, пока Павел Павлович изучал в Италии искусство Возрождения, Остроухов успел собрать целую коллекцию. «Я... пережил одно из трех-четырех самых сильных художественных впечатлений моей жизни... Что за дивное и великое искусство!
Дорогой Илья Семенович, что же это такое? У вас и дом сейчас — лучшее, что есть и величайшее из всего в России. Даже прежние Ваши великолепные вещи “не выдерживают” рядом с Входом, Положением, Снятием, Николой и Деисусом. Да, в любой итальянской галерее, среди мадонн и святых “треченто”, заняли бы они очень почетное место и нисколько не уступили бы им! Пожалуй, даже рядом с плотной эмалью наших русских досок, рядом с их чистыми контрастами показалась бы итальянская краска как-то менее сильной и менее радостной, менее цветастой и как бы уже отягощенной “землистостью” менее отвлеченного воображения».
Фото: Архив пресс-служб